სტუმარს სალამი ( შესვლა | დარეგისტრირება )
 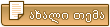 |
| death |
 May 30 2007, 12:08 AM May 30 2007, 12:08 AM
პოსტი
#1
|
 A P O L O G I S T    ჯგუფი: Members პოსტები: 1,274 რეგისტრ.: 4-February 07 წევრი № 1,003 |
მოკლედ გამიჩნდა იდეა რომ გამეხსნა თემა ლეგენდა ადამიანზე
ეხლა ავტვირტავ მის მოთხრობა "განაჩენს". სამწუხაროდ ქართული თარგმანი ვერსად ვნახე მაგრამ მოვძები და თუ ვნახე აუცილებლად მივცემ ციფრულ ფორმას Ф.М.Достоевский. Приговор Кстати, вот одно рассуждение одного самоубийцы от скуки, разумеется матерьялиста. "...В самом деле - какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу сознал; какое право она имела производить меня, без моей воли на то, сознающего? Сознающего, стало быть, страдающего, но я не хочу страдать - ибо для чего бы я согласился страдать? Природа, чрез сознание мое, возвещает мне о какой-то гармонии в целом. Человеческое сознание наделало из этого возвещения религий. Она говорит мне, что я, - хоть и знаю вполне, что в "гармонии целого" участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму ее вовсе, что она такое значит, - но что я все-таки должен подчиниться этому возвещению, должен смириться, принять страдание в виду гармонии в целом и согласиться жить. Но если выбирать сознательно, то, уж разумеется, я скорее пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне ровно нет никакого дела после того, как я уничтожусь, - останется ли это целое с гармонией на свете после меня или уничтожится сейчас же вместе со мною. И для чего бы я должен был так заботиться о его сохранении после меня - вот вопрос? Пусть уж лучше я был бы создан как все животные, то есть живущим, но не сознающим себя разумно; сознание же мое есть именно не гармония, а, напротив, дисгармония, потому что я с ним несчастлив. Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди соглашаются жить? Как раз те, которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому развитию их сознания. Они соглашаются жить охотно, но именно под условием жить как животные, то есть есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей. Есть, пить и спать по-человеческому значит наживаться и грабить, а устраивать гнездо значит по преимуществу грабить. Возразят мне, пожалуй, что можно устроиться и устроить гнездо на основаниях разумных, на научно верных социальных началах, а не грабежом, как было доныне. Пусть, а я спрошу для чего? Для чего устраиваться и употреблять столько стараний устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственно-праведно? На это, уж конечно, никто не сможет мне дать ответа. Все, что мне могли бы ответить, это: "чтоб получить наслаждение". Да, если б я был цветок или корова, я бы и получил наслаждение. Но, задавая, как теперь, себе беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество - обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием н ни за что не могу принять никакого счастья, - не от нежелания согласиться принять его, не от упрямства какого из-за принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это - чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно, тогда, может быть, я все же был бы утешен. Но ведь планета наша невечна, и человечеству срок - такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, - все это тоже приравняется завтра к тому же нулю. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого. И наконец, если б даже предположить эту сказку об устроенном наконец-то на земле человеке на разумных и научных основаниях - возможною и поверить ей, поверить грядущему наконец-то счастью людей, - то уж одна мысль о том, что природе необходимо было, по каким-то там косным законам ее, истязать человека тысячелетия, прежде чем довести его до этого счастья, одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна. Теперь прибавьте к тому, что той же природе, допустившей человека наконец-то до счастья, почему-то необходимо обратить все это завтра в нуль, несмотря на все страдание, которым заплатило человечество за это счастье, и, главное, нисколько не скрывая этого от меня и моего сознанья, как скрыла она от коровы, - то невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль: "ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?" Грусть этой мысли, главное - в том, что опять-таки нет виноватого, никто пробы не делал, некого проклясть, а просто все произошло по мертвым законам природы, мне совсем непонятным, с которыми сознанию моему никак нельзя согласиться. Ergo: 1 Так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе, как в гармонии целого, которой я не понимаю, и очевидно для меня, и понять никогда не в силах - Так как природа не только не признает за мной права спрашивать у нее отчета, но даже и не отвечает мне вовсе - и не потому, что не хочет, а потому, что и не может ответить - Так как я убедился, что природа, чтоб отвечать мне на мои вопросы, предназначила мне (бессознательно) меня же самого и отвечает мне моим же сознанием (потому что я сам это все говорю себе) - Так как, наконец, при таком порядке, я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупою, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унизительным - То, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, - вместе со мною к уничтожению... А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого". კარგი იქნება თუ დაწერთ თქვენს შეფასებებს -------------------- ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
The devil can cite scripture for his own purpose! — William Shakespeare თავისუფლებისათვის გაგვათავისუფლა ქრისტემ. მაშ, იდექით მასში და ნუღარ შეუდგებით მონობის უღელს" (გალ 5.1) |
| likka |
 May 30 2007, 12:44 AM May 30 2007, 12:44 AM
პოსტი
#2
|
|
გენა    ჯგუფი: Members პოსტები: 5,044 რეგისტრ.: 5-April 07 მდებარ.: Strawberry fields... წევრი № 1,578 |
death
ცნობილი ფაქტია რომ დოსტოევსკი ეგზისტენციალიზმის იდეებს იზიარებდა, ეგ და ფრანც კაფკა ეგზისტენციალისტ მწერლებადაც მოიხსენიებენ, მაგრამ კაფკასგან განსხვავებით, იმასაც წერენ, რომ მიუხედავად ასეთი აზრებისა, დოსტოევსკის ნაშრომები დასტურია მისი ღრმად მომწმუნე ქრისტიანული იდეებისო... ციტატა "...В самом деле - какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу сознал; какое право она имела производить меня, без моей воли на то, сознающего? Сознающего, стало быть, страдающего, но я не хочу страдать - ибо для чего бы я согласился страдать? Природа, чрез сознание мое, возвещает мне о какой-то гармонии в целом. Человеческое сознание наделало из этого возвещения религий. Она говорит мне, что я, - хоть и знаю вполне, что в "гармонии целого" участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму ее вовсе, что она такое значит, - но что я все-таки должен подчиниться этому возвещению, должен смириться, принять страдание в виду гармонии в целом и согласиться жить. აგერ ბატონო, სუფტა ეგზიტენციალისტური აზრები.... აქ ინგლისურად გეტყვით, ვიკიპედიის მოშველიებით, ქართული სტატია კი არსებობს მარა, არაა სრული და მომიტევეთ.... Existentialism is a philosophical movement which claims that individual human beings have full responsibility for creating the meanings of their own lives. It is a reaction against more traditional philosophies, such as rationalism and empiricism, which sought to discover an ultimate order in metaphysical principles or in the structure of the observed world Many writers who are not usually considered philosophers have also had a major influence on existentialism. Among them, Czech author Franz Kafka and Russian author Fyodor Dostoevsky are most prominent. Franz Kafka created often surreal and alienated characters who struggle with hopelessness and absurdity, notably in his most famous novella, The Metamorphosis, or in his master novel, The Trial. The Russian Fyodor Dostoevsky's Notes from Underground details the story of a man who is unable to fit into society and unhappy with the identities he creates for himself. Many of Dostoyevsky's novels, such as Crime and Punishment, have covered issues pertinent to existential philosophy while simultaneously refuting the validity of the claims of existentialism (notably the "superman" theory advocated by Nietzsche.) Throughout Crime and Punishment we see the protagonist, Raskolnikov, and his character develop away from existential ideas and beliefs in favor of more traditionally Christian ones, which Dostoevsky had come to advocate at this time. With the publication of Crime and Punishment in 1866, Fyodor Dostoevsky became one of Russia's most prominent authors in the nineteenth century. Dostoevsky has also been labeled one of the founding fathers of the philosophical movement known as existentialism. In particular, his Notes from Underground, first published in 1864, has been depicted as a founding work of existentialism -------------------- ეჰ...
|
| ლილიანა |
 May 30 2007, 07:36 AM May 30 2007, 07:36 AM
პოსტი
#3
|
 Advanced Member    ჯგუფი: Moderator პოსტები: 4,439 რეგისტრ.: 18-August 06 წევრი № 78 |
დოსტოევსკი ასე მგონია მთელი რუსული ნაციის ცოდვებს და ისტორიას საკუთარ თავში ინანიებდაა
დოსტოევსკის ქრისტიანურლი მორალი უფრო მისი შინაგანი სწრაფვაა განსწმენდისკენ ანუ დოსტოევსკი როგორც მე პიროვნება აცნობიერებს რა თავის ცოდვიანობას ეგსისტენციალურ ხასიათს ვნებებს შიშებს პათოლოგიას ხედავს მხსნელის განწმედნის საჭიროებას -------------------- 21. შემიწყალეთ მე, შემიწყალეთ მე, ჵ მეგობარნო ჩემნო, რამეთუ ჴელი უფლისაჲ შეხებულ არს ჩემდა.
|
| death |
 Jun 1 2007, 12:55 AM Jun 1 2007, 12:55 AM
პოსტი
#4
|
 A P O L O G I S T    ჯგუფი: Members პოსტები: 1,274 რეგისტრ.: 4-February 07 წევრი № 1,003 |
კარგი იქნებოდა თუ აქ ამ ნაშრომის განხილვა მოხდებოდა და არა დოსტოევსკის ეგზისტენციალიზმის
ცნობილი ფაქტია რომ დოსტოევსკი ეგზისტენციალიზმის იდეებს იზიარებდა, ეგ და ფრანც კაფკა ეგზისტენციალისტ მწერლებადაც მოიხსენიებენ, მაგრამ კაფკასგან განსხვავებით, იმასაც წერენ, რომ მიუხედავად ასეთი აზრებისა, დოსტოევსკის ნაშრომები დასტურია მისი ღრმად მომწმუნე ქრისტიანული იდეებისო... სარტრი და ნიცშეც ეგზისტენციალისტები იყვნენ მაგრამ დააყენო ეგ ოთხი ადამიანი ერთად ეგ იგივეა ჰიტლერი, რობესპიერი და იოანე ოქროპირი დააყენო ერთად. ისე მეც ეგზისტენციალისტი ვარ მაგრამ არც ერესში ვარ არც სქიზმაში და არც მართლმადიდებლობას ვუყურებ გამჭოლი მზერით. ასკეტი მამები თავისი ცხოვრებითაც ეგზისტენციალისტები იყვნენ ქრისტეში. არ ვიცი მოკლედ რისთვის აღნიშნე დოსტოევსკის ეგზისტენციალიზმი მაგრამ ის ებზისტენციალიზმი რომელზეც დოსტოევსკი წერდა შესისხორცებულია მართლმადიდებლობასთან რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს "ნების ეგზისტენციალიზმთან" რომელსაც ჰოლივუდი ესე მონდომებით აშეარებს. ციტატა აგერ ბატონო, სუფტა ეგზიტენციალისტური აზრები.... კი მართალია მაგრამ როგორც კონტექსტიდან ჩანს ეგ არა დოსტოევსკის არამედ დოტოევსკის გმირს ეკუთვნის რომლის სახითაც ცდილობდა დოსტოევსი დაენახებინა მატერიალისტურ -ათეისტური ცხოვრების უაზრობა. -------------------- ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
The devil can cite scripture for his own purpose! — William Shakespeare თავისუფლებისათვის გაგვათავისუფლა ქრისტემ. მაშ, იდექით მასში და ნუღარ შეუდგებით მონობის უღელს" (გალ 5.1) |
| likka |
 Jun 1 2007, 01:04 AM Jun 1 2007, 01:04 AM
პოსტი
#5
|
|
გენა    ჯგუფი: Members პოსტები: 5,044 რეგისტრ.: 5-April 07 მდებარ.: Strawberry fields... წევრი № 1,578 |
death
მე უბრალდო ახლახანს გავეცანი ეგზისტენციალიზმს და თან უნდა ავღნიშნო არც ეგრე ღრმად, უბრალოდ დაემთხვა დროში და იმას რაც მე წავიკითხე... თორე მასე სიღრმისეულად დოსტოევსკის განხილვას ნამდივლად ვერ და არც დავიწყებ... ჯერ ვიკვლევ მეც... -------------------- ეჰ...
|
| death |
 Jun 3 2007, 11:40 AM Jun 3 2007, 11:40 AM
პოსტი
#6
|
 A P O L O G I S T    ჯგუფი: Members პოსტები: 1,274 რეგისტრ.: 4-February 07 წევრი № 1,003 |
მოკლედ არ ვიცი ვინმე თუ კითხულობს მაგრამ მაინც გავაგრძელებ
Мальчик у Христа на елке Но я романист, и, кажется, одну “историю” сам сочинил. Почему я пишу: “кажется”, ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне всё мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз. Мерещится мне, был в подвале мальчик, но ещё очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили ещё два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к её углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему наконец в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. “Очень уж здесь холодно”, — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошёл из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да всё боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу. — Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — Господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, Господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика. Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это ёлка, а на ёлке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придёт, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся; на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: “Тут не сыщут, да и темно”. Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: “Посижу здесь л пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!” И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. — Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо! — Пойдем ко мне на елку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос. Он подумал было, что это всё его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг, — о, какой свет! О, какая ёлка! Да и не ёлка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: всё блестит, всё сияет и кругом всё куколки, — но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно. — Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. — Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спрашивает он, смеясь и любя их. — Это Христова ёлка, — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день ёлка для маленьких деточек, у которых там нет своей ёлки... — И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода), четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо... А внизу, наутро, дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла ещё прежде его; оба свиделись у Господа Бога на Небе. И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А ещё обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне всё кажется и мерещится, что всё это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об ёлке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать. -------------------- ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
The devil can cite scripture for his own purpose! — William Shakespeare თავისუფლებისათვის გაგვათავისუფლა ქრისტემ. მაშ, იდექით მასში და ნუღარ შეუდგებით მონობის უღელს" (გალ 5.1) |
| death |
 Jun 5 2007, 12:19 AM Jun 5 2007, 12:19 AM
პოსტი
#7
|
 A P O L O G I S T    ჯგუფი: Members პოსტები: 1,274 რეგისტრ.: 4-February 07 წევრი № 1,003 |
Сон смешного человека ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ I Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я всё еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной - и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, - не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут. А прежде я тосковал очень оттого, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я уже семи лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете и что же - чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказывать и объяснять мне, по мере того как я в нее углублялся, что я смешон. Подобно как в науке, шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают, но тут я сам был виноват: я всегда был так горд, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моем отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищам. Но с тех пор как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом всё больше и больше о моем ужасном качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить почему. Может быть, потому что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно - это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде всё равно. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне всё равно было бы, существовал ли бы мир или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. Сначала мне всё казалось, что зато было многое прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках: я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтоб от задумчивости: об чем мне было думать, я совсем перестал тогда думать: мне было всё равно. И добро бы я разрешил вопросы; о, ни одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало всё равно, и вопросы все удалились. И вот, после того уж, я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября, и с того времени я каждое мгновение мое помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой, и именно, помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям, а тут вдруг, в одиннадцатом часу, перестал, и началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и ото всего шел какой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь, подальше, с улицы. Мне вдруг представилось, что если б потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом грустнее сердцу, потому что он всё это освещает. Я в этот день почти не обедал и с раннего вечера просидел у одного инженера, а у него сидели еще двое приятелей. Я всё молчал и, кажется, им надоел. Они говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было всё равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это: «Господа, ведь вам, говорю, всё равно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрека, и просто потому, что мне было всё равно. Они и увидели, что мне всё равно, и им стало весело. Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные чёрные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль: я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два месяца назад, и как я ни беден, а купил прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два месяца, а он всё лежал в ящике; но мне было до того всё равно, что захотелось наконец улучить минуту, когда будет не так всё равно, для чего так - не знаю. И, таким образом, в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я всё ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет непременно уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль - не знаю. И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста, и никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была отчего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! Мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтоб она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, всё бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: «Барин, барин!..» - но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему. Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате, за перегородкой, продолжался содом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, а у него были гости - человек шесть стрюцких, пили водку и играли в штос старыми картами. В прошлую ночь была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочих жильцов у нас в номерах всего одна маленькая ростом и худенькая дама, из полковых, приезжая, с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах детьми. И она и дети боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а с самым маленьким ребенком был от страху какой-то припадок. Этот капитан, я наверно знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не принимают, но, странное дело (я ведь к тому и рассказываю это), капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой и сколько бы их там ни было, - мне всегда всё равно. Я сижу всю ночь и, право, их не слышу, - до того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета и вот уже этак год. Я просиживаю всю ночь у стола в креслах и ничего не делаю. Книги читаю я только днем. Сижу и даже не думаю, а так, какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собою. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: «Так ли?», и совершенно утвердительно ответил себе: «Так». То есть застрелюсь. Я знал, что уж в эту ночь застрелюсь наверно, но сколько еще просижу до тех пор за столом, - этого не знал. И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка. II Видите ли: хоть мне и было всё равно, но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня кто, и я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении: случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость, так же как и тогда, когда мне было еще в жизни не всё равно. Я и почувствовал жалость давеча: уж ребенку-то я бы непременно помог. Почему ж я не помог девочке? А из одной явившейся тогда идеи: когда она дёргала и звала меня, то вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что если я уже решил, что в нынешнюю ночь с. собой покончу, то, стало быть, мне всё на свете должно было стать теперь, более чем когда-нибудь, всё равно. Отчего же я вдруг почувствовал, что мне не всё равно и я жалею девочку? Я помню, что я ее очень пожалел; до какой-то даже странной боли и совсем даже невероятной в моем положении. Право, я не умею лучше передать этого тогдашнего моего мимолетного ощущения, но ощущение продолжалось и дома, когда уже я засел за столом, и я очень был раздражен, как давно уже не был. Рассуждение текло за рассуждением. Представлялось ясным, что если я человек, и еще не нуль, и пока не обратился в нуль, то живу, а следственно, могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный. И неужели сознание о том, что я сейчас совершенно не буду существовать, а стало быть, и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа всё угаснет». Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти убежден в этом. Ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди - я-то сам один и есть. Помню, что, сидя и рассуждая, я обертывал все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону и выдумывал совсем уж повое. Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил прежде на луне или на Марсе и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну, - было бы мне всё равно или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо мною, и я всем существом моим знал, что это будет наверно, но они горячили меня, и я бесился. Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана же между тем стало тоже всё утихать: они кончили в карты, устраивались спать, а пока ворчали и лениво доругивались. Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде, за столом в креслах. Я заснул совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающею ясностью, с ювелирски-мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например, через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем я ведь вполне, во всё продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой совершенно допускает всё это? Но довольно. Приступаю к сну моему. Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не всё равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина и другой нет и не может быть, спите вы или живете. Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, - о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь! Слушайте. III Я сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и, сидя, наставляю его прямо в сердце - в сердце, а не в голову; я же положил прежде непременно застрелиться в голову и именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил. Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли, кроме разве если сами как-нибудь действительно ушибетесь в кровати, тут вы почувствуете боль и всегда почти, от боли проснетесь. Так и во сне моем: боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим всё во мне сотряслось и всё вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чем-то твердом, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, - и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь, не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я скоро мирюсь с этим и, по обыкновению, как во сне, принимаю действительность без спору. И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе, как меня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял лишь одно ощущение сырости и холода. Так и теперь я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но больше ничего не почувствовал. Я лежал и, странно, - ничего не ждал, без спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, - час или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее, и так далее, всё через минуту. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем физическую боль: «Это рана моя, - подумал я,-это выстрел, там пуля...» А капля всё капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною: - Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое - безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества! .. Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что непременно сейчас всё изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось всё так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидал в темноте одну звездочку. «Это Сириус?» - спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел ни о чем спрашивать. - «Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой», - отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое есть, существует: «А, стало быть, есть и за гробом жизнь!»-подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: «И если надо быть снова, - подумал я, - и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!» - «Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня», - сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унизительного вопроса, в котором заключалось признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое. Он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не презирают, и надо мной не смеются, и даже не сожалеют меня, и что путь наш имеет цель, неизвестную и таинственную и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной, измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы. - Но если это - солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, - вскричал я,-то где же земля?-И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней. - И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша?.. - вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною. - Увидишь всё, - ответил мой спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове. Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, я жажду в сию минуту целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..» Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг, или где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому архипелагу. О, всё было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым наконец торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, - о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял всё, всё! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы всё уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего. IV Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любпл их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу - на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, всё время, не оскорбить такого как я и ни разу не возбудить в таком как я чувство ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались Дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостию, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга как дети; это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проницали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во всё их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и всё более и более. Я часто говорил им, что я всё это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез... Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них. О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было, - боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье! О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем: но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стушеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и, уж конечно, исказив их, особенно .при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что всё это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но всё это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: всё это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я... развратил их всех! -------------------- ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
The devil can cite scripture for his own purpose! — William Shakespeare თავისუფლებისათვის გაგვათავისუფლა ქრისტემ. მაშ, იდექით მასში და ნუღარ შეუდგებით მონობის უღელს" (გალ 5.1) |
| di_onise |
 Jun 5 2007, 12:24 AM Jun 5 2007, 12:24 AM
პოსტი
#8
|
|
Advanced Member    ჯგუფი: Members პოსტები: 3,377 რეგისტრ.: 4-May 07 წევრი № 1,836 |
რა ბედნიერია ის ვინც რუსული იცის და ამ ნაწერებს იგებს. (ან კიდე პირიქით
|
| death |
 Jun 5 2007, 12:36 AM Jun 5 2007, 12:36 AM
პოსტი
#9
|
 A P O L O G I S T    ჯგუფი: Members პოსტები: 1,274 რეგისტრ.: 4-February 07 წევრი № 1,003 |
ესეც გაგრძელება:
V Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться - не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность - жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, .то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но, странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желанием сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же «желанию», в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? - то они наверно бы отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердый Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни - выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья - выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтобы те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их каменьями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего иль ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось - к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что всё это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что всё то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру, и тут... ну, вот тут я и проснулся. Было уже утро, то есть еще не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я вскочил в чрезвычайном удивлении; никогда со мной не случалось ничего подобного, даже до пустяков и мелочей: никогда еще не засыпал я, например, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя, - вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, готовый, заряженный, - но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал всё существо мое. Да, жизнь, и - проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, - что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу! И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того - люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так - не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь, и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И, уж конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь всё это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, - не то что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но ненадолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, - вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я лгу, и охранила меня и направила. Но как устроить рай - я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и всё буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!), - ну, а я все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто: в один бы день, в один бы час - всё бы сразу устроилось! Главное - люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться. А между тем ведь это только - старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья - выше счастья» - вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас всё устроится. А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду! -------------------- ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
The devil can cite scripture for his own purpose! — William Shakespeare თავისუფლებისათვის გაგვათავისუფლა ქრისტემ. მაშ, იდექით მასში და ნუღარ შეუდგებით მონობის უღელს" (გალ 5.1) |
| კანუდოსელი |
 Jun 5 2007, 12:25 PM Jun 5 2007, 12:25 PM
პოსტი
#10
|
 Advanced Member    ჯგუფი: Members პოსტები: 8,829 რეგისტრ.: 2-November 06 მდებარ.: კანუდოსი წევრი № 374 |
კარგი იქნება თუ დაწერთ თქვენს შეფასებებს ოოოოო,მადლობა სიკვდილ...გაიხარე ჰოოო, მაგარი ვინმეა ტეოდორ დოსტოევსკი, მე დღემდე მაკვირვებს, როგორ შეუძლია ადამიანს, ვისაც არ მოუკლავს არასოდეს არავინ, ასე ღრმად აღწეროს მკვლელის შინაგანი სამყარო, დოსტოევსკი ზედმიწევნით ზუსტად გადმოსცემს, აი თუნდაც ამ დიალოგში მკვლელისა საკუთარ თავთან, დაცემული ბუნების ბრძოლას ამავე ბუნებაში ღვთიურ საწყისთან.... -------------------- ინკვიზიტორი იეღოველი ეკუმენისტი მასონი ბუდისტი მღვდელი გულისყურით გისმენთ :-)
პ.ს. ბყკ :-) ბ - ბუდისტ ყ - ყრმათა კ - კავშირი |
| KAIROS |
 Jun 7 2007, 04:50 AM Jun 7 2007, 04:50 AM
პოსტი
#11
|
 იხარეთ!    ჯგუფი: საფინანსო პოსტები: 9,492 რეგისტრ.: 9-November 06 მდებარ.: Aurea mediocritas წევრი № 438 |
დოსტოევსკი მართლა ძლიერია!
ეს ოსიპოვის სტატიაა დოსტოევსკიზე, მგონი დაგაინტერესებთ: Ф. М. Достоевский и христианство К 175-летию со дня рождения 11 ноября 1996 года в Издательстве Московской Патриархии в рамках "Издательских сред" состоялся вечер, посвященный 175-летию со дня рождения великого русского писателя Ф. М. Достоевского. Вечер организовал Отдел церковной благотворительности и социального служения Московского Патриархата, возглавляемый архиепископом Солнечногорским Сергием. С докладом о творчестве писателя-христианина выступил профессор Московской Духовной академии А. И. Осипов. Предлагаем вниманию наших читателей этот доклад. -------------------------------------------------------------------------------- Лучшие люди познаются высшим нравственным развитием и высшим нравственным влиянием. Ф. М. Достоевский Федор Михайлович Достоевский принадлежит к той сравнительно небольшой части человечества, которая именуется людьми живыми, людьми, несущими в себе огонь, никогда не перестающий возгревать их души в искании Истины и следовании ей. Может быть, наилучшим фоном для изображения этих людей является другая часть человечества, о которой Господь Иисус Христос сказал Своему ученику: "Предоставь мертвым погребать своих мертвецов" (Мф. 8, 22). Эти другие – люди мировоззренчески безразличные. Они не задумываются о душе, о нравственной ответственности перед совестью и Богом, об истине, о каком-то ином смысле жизни, кроме посюстороннего, исключительно земного, преходящего. Это те "теплохладные", о которых Писание говорит: "Извергну тебя из уст Моих" (Откр. 3, 15). Как далек от них по типу своей личности Достоевский! При всей сложности характера и нравственных проявлений своей непростой натуры это был человек, горящий исканием, ищущий святыни, высшей Правды – не философской отвлеченной истины, большей частью ни к чему не обязывающей человека, но Правды вечной, которая должна воплощаться в жизнь и сохранять человека от духовной смерти. Однако только с точки зрения вечности можно, по Достоевскому, говорить о Правде, ибо она есть Сам Бог, и потому отречение от идеи Бога неминуемо приведет человечество к гибели. В уста беса в "Братьях Карамазовых" Достоевский влагает следующие знаменательные слова: "По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать, – о, слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога, то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог... а ему "все позволено"... Для Бога не существует закона! Где станет Бог – там уже место Божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... "все дозволено" и шабаш!" Мысль о великом значении для человека веры в Бога и бессмертие души Федор Михайлович высказывает и развивает во многих своих сочинениях и выступлениях, и она, бесспорно, заключает в себе основной стержень его жизни и творчества, источник его целожизненного, прошедшего в великих интеллектуальных и нравственных борениях богоискательства, приведшего его ко Христу и Православной Церкви. Ф. М. Достоевский как личность, говоря о нем его же словами о человеке, "широк... слишком даже широк, я бы сузил". Но нельзя "сузить" его, иначе это уже будет не Достоевский. Поэтому, чтобы как можно меньше погрешить против него, не будем касаться "широты" его личности, давать оценку его гениальным трудам, оставим подробности его жизни и деятельности, уклонимся от анализа художественных достоинств и недостатков его произведений, умолчим даже о том колоссальном влиянии, которое имело и оказывает до сих пор его творческое наследие на все мыслящее человечество. Сейчас попытаемся, насколько это возможно, осветить только один вопрос, лежащий совсем не в горизонтальном измерении личности писателя и его творчества, а в той глубине души, из которой проистекал необыкновенно богатый поток ценностей, оставленных русским гением своим потомкам. Итак, какова основополагающая идея, точнее, дух творчества Достоевского и как можно было бы охарактеризовать его не с точки зрения земных человеческих достоинств, но sub specie aeternitatis? Эдгар По однажды записал: "Если какой-нибудь честолюбивый человек возмечтает революционизировать одним усилием весь мир человеческой мысли, человеческого мнения и человеческого чувства, подходящий случай у него в руках – дорога к бессмертию лежит перед ним прямо, она открыта и ничем не загромождена. Все, что он должен сделать, – это написать... маленькую книгу. Заглавие ее должно быть простым – три ясных слова: "Мое обнаженное сердце". Но эта маленькая книга должна быть верна своему заглавию". Если обратиться к истории человеческой мысли, то оказывается, что Эдгар По запоздал со своим предложением по меньшей мере на две тысячи лет. Такая книга уже написана, и она с предельной полнотой обнажила глубины сердца человеческого. Правда, эта маленькая книга называется несколько иначе – Евангелие. Оно открыло миру путь к совершенному познанию души человеческой: как ее невыразимой красоты, равной которой, по выражению Макария Египетского, нет ни на небе, ни на земле, так и того безмерного зла, которое возникло в том же сердце в силу отступления человека от Самой Истины и Жизни – Бога. Оно, Евангелие, и стало для живых духом людей источником и основой познания как своего собственного сердца, так и познания вообще человека, и создания многих "маленьких книг". Один из весьма редких писателей, кто стал строить здание своего художественного творчества на этом основании, – Федор Михайлович Достоевский. Что является главным предметом мысли Достоевского? На этот вопрос легко ответить – человек, его сердце, его душа. "А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и везде, и верил он, что мы все род Божий, верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующую над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением" – так говорил на могиле Достоевского 1 февраля 1881 года В. С. Соловьев. Но человека рассматривал Достоевский не обычно, не как большинство. Он видел свою задачу не в простом изображении его жизни, всеми видимой, не в реализме, часто напоминающем натурализм, но в раскрытии самой сущности души человека, самых глубоких ее движущих начал, откуда возникают и развиваются все чувства, настроения, идеи, все поведение человека. И здесь Федор Михайлович показал себя непревзойденным психологом. Что же представляет собой человек в понимании Достоевского? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить основные точки зрения, которые господствовали в просвещенном обществе того времени. Их три. 1. Человек – это коварная, чувственная и эгоистическая обезьяна, несущая в себе наследие своих животных предков. 2. Человек – добр, любвеобилен, способен к самопожертвованию и т. п. Дурные качества, которые мы замечаем в человеке, не суть свойства его природы, но прямые следствия развития цивилизации, которая внесла в человека дисгармонию, отдалив его от природы, от естественной жизни. 3. Человек не зол и не добр по природе, он – чистая доска, на которую лишь социальная среда во всем многообразии ее факторов наносит соответствующие письмена. Достоевский в существе своих воззрений очень далек от всех этих теорий. Для него противоестественна первая точка зрения, хотя, по-видимому, редко кто из писателей смог изобразить с такой силой и яркостью "дно" души человеческой, как он. Достоевский не согласен и со второй теорией, несмотря на то что сама идея неизгладимого и всегда действующего в человеке добра и правды была ведущей во всем его творчестве. В "Дневнике писателя" читаем даже такое: "Зло таится в человеке глубже, чем предполагают обычно". Резкую критику вызывает у Достоевского и третья теория. Он не согласен с тем, что "если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать и все в один миг станут праведными". "Ни в каком устройстве общества, – писал он, – не избегнете зла... душа человеческая останется та же... ненормальность и грех исходят из нее самой". У Федора Михайловича иное воззрение на человека, воззрение, которое можно назвать исходящим из Евангелия. "Маленькая книга" – Евангелие – открыла ему тайну человека, открыла, что человек – это не обезьяна и не ангел святой, но тот образ Божий, который хотя по своей богозданной природе добр, чист, прекрасен, однако в силу грехопадения человека глубоко исказился, в результате чего на земле его сердца стали произрастать "терние и волчцы". Таким образом, в падшем человеке, природа которого теперь называется естественной, одновременно присутствуют и семена добра, и плевелы зла. В чем же спасение человека по Евангелию? В опытном познании глубокой поврежденности своей природы, личной неспособности искоренения этого зла и через то – действенное признание необходимости Христа как единственного своего Спасителя, то есть живая вера в Него. Сама эта вера возникает в человеке лишь через искреннее и постоянное понуждение себя к совершению евангельского добра и борьбу с грехом, открывающую ему его реальное бессилие и смиряющую его. Величайшая заслуга Достоевского в том и состоит, что он не только познал свое падение, смирился и пришел через труднейшую борьбу к истинной вере во Христа, как и сам говорил: "Не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла", – но и в том, что в необычно яркой, сильной, глубокой художественной форме раскрыл миру этот путь души. Достоевский как бы еще раз благовествовал миру христианство, и так, как, по-видимому, никто из светских писателей еще ни до, ни после него не сделал. В смирении видит Достоевский основу для нравственного возрождения человека и для принятия его Богом и людьми. Без смирения не может быть исправления, в котором нуждаются все без исключения живущие, ибо во всех присутствует зло, и великое зло. "Если б только, – говорит Достоевский устами князя в "Униженных и оскорбленных", – могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если б могло быть, чтобы каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтобы не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, – то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться". Потому-то везде и всюду, если не прямо словом, то всей изображаемой жизнью героя, его падениями и восстаниями Достоевский призывает человека к смирению и труду над самим собой: "Смири свою гордость, гордый человек, поработай на ниве, праздный человек!" Да и как не смириться тому, кто прямо посмотрит на себя и признается честно самому себе во всем? Смирение не унижает человека, а, напротив, ставит его на твердую почву самопознания, реалистического взгляда на себя, вообще на человека, поскольку смирение и есть тот свет, благодаря которому только человек видит себя таким, каким он является на самом деле. Оно есть свидетельство великого мужества человека, не убоявшегося встретиться с самым грозным и неумолимым соперником – совестью своей. Для самолюбивого и тщеславного это не под силу. Смирение является твердой основой, солью всех добродетелей. Без него они вырождаются в лицемерие, ханжество, гордыню. Эта мысль постоянно звучит в творчестве Достоевского. Она является для него своего рода фундаментом, на котором он строит редкий по глубине прозрения психоанализ человека. Отсюда необычайная правда изображения им внутреннего мира человека, сокровенных движений его души, его греха и падения и одновременно глубинной чистоты его и святости образа Божия. При этом никогда не чувствуется со стороны автора ни малейшего осуждения самого человека. В уста старца Зосимы Достоевский вкладывает замечательные слова. "Братья, – поучает старец, – не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уже подобие Божеской любви и есть верх любви на земле... И да не смущает вас грех людей в вашем делании, не бойтесь, что он затрет дело ваше и не даст ему совершиться. Бегите сего уныния... Помни особенно, что не можешь ничьим судьею быть. Ибо не может быть на земле судьи преступника, прежде чем сам судья не познает, что он такой же точно преступник, как и стоящий перед ним, и что он-то за преступление стоящего перед ним, может, прежде всех виноват". Но познать-то это не так просто. Далеко не многие способны увидеть в себе, "что и он такой же точно преступник". Большинство мнит себя в общем-то хорошими. Именно потому и мир так плох. Те же, которые становятся способными увидеть, что "все виноваты за всех", видеть личную свою преступность перед внутренним законом правды и раскаиваются, – глубоко преображаются, потому что начинают видеть в себе Божию правду, Бога. Да и что значат пред Богом все дела человеческие! Все они не более как "луковка", о которой говорит Алеше Грушенька ("Братья Карамазовы"): "Всего-то я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою подала, всего только на мне и есть добродетели". То же самое говорит Алеше во сне и его праведный старец Зосима, удостоившийся чести быть на брачном пире Господнем. Старец подошел к Алеше и говорит ему: "Тоже, милый, тоже зван, зван и призван. Веселимся. Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке... Что наши дела?" Это состояние – действительно состояние евангельского мытаря, вышедшего из храма, по слову Самого Господа, оправданным. Подобное же настроение мы видим и у пьяницы Мармеладова ("Преступление и наказание"), когда он говорит о Страшном суде Божием: "И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных... И когда же кончит над всеми, тогда возглаголет и к нам: "Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!" И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: "Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!" И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: "Господи! Почто сих приемлеши?" И скажет: "Потому их приемлю, премудрые, потому их приемлю, разумные, что ни един из сих сам не считал себя достойным сего"... И прострет к нам руце Свои, и мы припадем... и заплачем... и все поймем! Тогда все поймем... и все поймут". Так изумительно переложил Достоевский начало и основу евангельского учения о спасении – "Блаженны нищии духом, яко тех есть Царство Небесное" – на язык современности: "потому что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего". Только на этой незыблемой основе "нищеты духа" возможно достижение и цели христианской жизни – любви. Ее утверждает Евангелие как закон жизни: только в ней обещает оно благо, счастье человека и человечества. Эта любовь как сила исцеляющая, возрождающая и проповедуется Достоевским во всех, можно сказать, произведениях, к ней зовет он людей. Не о романтической, конечно, любви идет речь. Любовь Достоевского – это жалость того же князя Мышкина к ударившему его купцу Рогожину, это сострадание к страждущему телом и душой ближнему, неосуждение его: "Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его". Вспомним заключительную сцену из "Братьев Карамазовых", когда Ракитин, семинарист, зло радуясь, приводит Алешу к Грушеньке, надеясь увидеть позор праведника. Но позора не случилось. Напротив, Грушенька была потрясена чистой любовью – состраданием к ней Алеши. Все дурное враз исчезло у нее, когда она увидела это. "Не знаю я, – говорила она Ракитину, – не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал, сердцу сказалось, сердце он мне перевернул... Пожалел он меня первый, единый, вот что! "Зачем ты, херувим, не приходил прежде, – обратилась она к Алеше, упав перед ним на колени, как бы в исступлении. – Я всю жизнь такого, как ты, ждала, знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верила, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за один только срам!" "– Что я тебе такого сделал, – умиленно улыбаясь, ответил Алеша, нагнувшись к ней и взяв ее за руки, – луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, только!" И, проговорив, сам заплакал". Хотел Достоевский показать и показал со всей силой своего таланта, что живет Бог в человеке, живет в человеке добро, несмотря на всю ту наносную грязь, которой покрывает он себя. Хотя и не ангел человек по жизни своей, но и не злобное он животное по своей сущности. Он именно образ Божий, но падший. Потому Достоевский и не произносит суда над грешником, что видит в нем искру Божию как залог его восстания и спасения. Вот Дмитрий Карамазов, человек взбалмошный, распущенный, с нравом дерзким, необузданным. Что творится в душе этой страшной личности, кто он? Мир произнес свое окончательное суждение о нем – злодей. Но верно ли это? "Нет!" – утверждает со всей силой своей души Достоевский. И в этой душе, в глубине ее, горит, оказывается, лампада. Вот что исповедует Дмитрий Алеше, брату своему, в одной из бесед: "... мне случалось погружаться в самый глубокий позор разврата (а мне только это и случалось)... И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок, подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и Твой сын, Господи, и я люблю Тебя, и ощущаю радость, без которой миру нельзя стоять и быть...". Вот почему, в частности, так верил Достоевский в русский народ, несмотря на все его прегрешения. "Кто истинный друг человечества, – призывал он, – у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает... Нет, судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений". Как желал Достоевский показать эту красоту очищенной души человеческой, этот бесценный бриллиант, который большей частью весь завален, захламлен, загажен грязью лжи, гордыни и плотоугодия, но вновь начинает сверкать, омытый слезами страданий, слезами покаяния! Достоевский убежден был, что потому и грешит человек, потому и зол он часто и дурен, что не видит красоты своей подлинной, не видит души своей настоящей. В материалах к "Бесам" находим у него такое: "Христос затем и приходил, чтобы человечество узнало, что и его земная природа, дух человеческий может явиться в таком небесном блеске на самом деле и во плоти, а не то что в одной мечте и в идеале, – что это и естественно и возможно". Кириллов в "Бесах" говорит обо всех людях: "Они не хороши, потому что не знают, что они хороши. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого". Именно об этой красоте, представшей духовно очищенному взору человека, говорил Достоевский, когда утверждал, что "красота спасет мир" ("Идиот"). Но, оказывается, красота эта спасающая, как правило, открывается человеку в страданиях, через мужественное несение им креста своего. Не случайно страдания в творчестве Достоевского занимают господствующее место, а его самого по справедливости называют художником страданий. Ими, как огнем золото, очищается душа. Они, становясь раскаянием, возрождают душу к новой жизни и оказываются тем искуплением, которого жаждет каждый человек, глубоко осознающий и переживший свои грехи, свои мерзости. И поскольку все грешны, то и страдания, по Достоевскому, необходимы всем, как пища и питие. И плохо той душе, которая не чувствует этой необходимости. "Если хотите, – пишет он в "Записной книжке", – человек должен быть глубоко несчастен, ибо тогда он будет счастлив. Если же он будет постоянно счастлив, то он тотчас же сделается глубоко несчастлив". "Горе узришь великое, – говорит старец Зосима Алеше, – и в горе сам счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастье ищи". Ибо через страдания, к которым ведут иногда и страшные преступления, освобождается человек от своего внутреннего зла и его соблазнов и вновь обращается к Богу в своем сердце, спасается. Это спасение Достоевский видит только во Христе, в Православии, в Церкви. Христос для Достоевского не отвлеченный нравственный идеал, не абстрактная философская истина, но абсолютное, превысшее личностное Благо и совершенная Красота. Поэтому он пишет к Фонвизиной: "Если б кто доказал мне, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели со истиной". Именно потому он с таким сарказмом говорит через Алешу Карамазова о псевдопоследовании Христу: "Не могу я отдать вместо всего два рубля, а вместо "иди за Мной" ходить лишь к обедне". В таком случае действительно от Христа остается лишь "мертвый образ, которому поклоняются в церквах по праздникам, но которому нет места в жизни" [1]. Но Христос, по глубокому убеждению Достоевского, сохранился неповрежденно лишь в Православии, в народах славянских, и особенно в русском народе. Отсюда и особенность взгляда Достоевского на русский народ как на народ-богоносец, народ, который может и должен спасти Европу – это "дорогое, – по словам Ивана Карамазова, – кладбище (давно уже кладбище, и никак не более)", а с нею и весь мир. "Все, все, чего ищет русский народ, – пишет он, – заключается для него в Православии – в одном Православии и правда и спасение народа русского"; "главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит в том, чтоб сохранившийся в Православии Божественный лик Христа, когда придет время, – явить всему миру, потерявшему свой путь". Почему так пишет Достоевский? Разве Европа не была христианской? "В Европе, – отвечает он, – и теперь есть христиане, но зато страшно много извращенного понимания христианства" ("Записная книжка"). "На Западе, – пишет он Н. Страхову (1871 год), – Христа потеряли – благодаря католицизму, и оттого Запад падает". Отсюда и роковые для Европы последствия. За год до смерти Достоевский писал: "Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного и общего. Муравейник, давно уже создавшийся в ней без Церкви и без Христа, с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим все общее и все абсолютное, – этот созидавшийся муравейник весь подкопан". Причину духовного омертвения Европы Достоевский видит в извращении самых основ христианства в католичестве. Именно это привело Запад к грандиозной религиозной катастрофе в XVI веке, оно же ныне породило и великую трагедию европейской культуры. При этом Достоевский подчеркивает: "Я не про религию католическую одну говорю – но про всю идею католическую". В "Легенде о Великом Инквизиторе" Достоевский раскрывает свое понимание этой идеи. Он убежден, что католичество, по существу, отвергло Христа, поскольку отвергло важнейшую предпосылку Его учения: благовестие о свободном, и только свободном обращении человека к Богу, о свободном ответе человека на любовь Божию. Католическая церковь, по Достоевскому, стремится любыми средствами, в том числе насилием и хитростью, подчинить человека власти Рима. И эта идея исходит не из любви ко Христу, а из горделивого стремления к господству над всем человечеством. То есть цель католичества чисто земная, бездуховная, и потому ее осуществлению более всего мешает именно Христос Своею проповедью о любви и свободе как непременных условиях достижения человеком истинного блага. В уста Великого Инквизитора Достоевский вкладывает ужасное признание. "Я не хочу любви Твоей, – говорит он Христу, – потому что сам не люблю Тебя. Может быть, ты хочешь услышать нашу тайну из моих уст, так слушай же: мы не с Тобою, а с ним, вот наша тайна". Отвергая Церковь Католическую, Достоевский в то же время решительно настаивает на необходимости Православной Церкви в качестве безусловного духовного начала жизни и носителя той истинной культуры, которую должна принести миру Россия. Протоиерей Василий Зеньковский писал: "Оцерковление всей жизни – вот тот положительный идеал, который одушевлял Достоевского и который он понимал не как внешнее подчинение всей жизни Церкви (как это именно и думало католичество), но как свободное и внутреннее усвоение жизнью во всех ее формах христианских начал" [2]. Но задолго до него то же самое говорил и В. Соловьев: "Если мы хотим одним словом обозначить тот общественный идеал, к которому пришел Достоевский, то это слово будет... Церковь" ("Первая речь в память Достоевского"). Таким образом, говоря о творчестве Достоевского, можно с несомненностью сказать, что основное его направление и дух его – евангельские (хотя с богословской точки зрения у него и были отдельные ошибочные высказывания и идеи). Как все Евангелие пронизано духом покаяния, необходимости осознания человеком своей греховности, смирения, – одним словом, духом мытаря, блудницы, разбойника, припавших со слезами раскаяния ко Христу и получивших очищение, нравственную свободу, радость и свет жизни, – так и весь дух произведений Достоевского дышит там же и тем же. Достоевский, кажется, только и пишет о "бедных людях", об "униженных и оскорбленных", о "карамазовых", о "преступлениях и наказаниях", возрождающих человека. "Возрождение, – подчеркивает митрополит Антоний (Храповицкий), – вот о чем писал Достоевский во всех своих повестях: покаяние и возрождение, грехопадение и исправление, а если нет, то ожесточенное самоубийство; только около этих настроений вращается вся жизнь всех его героев" [3]. Еще пишет он о детях. Дети везде в сочинениях Достоевского. И везде они святы, везде как ангелы Божии среди ужасного, развращенного мира. Но не детей ли и есть Царство Божие! Замечательны последние минуты жизни Достоевского, раскрывающие нам духовное устроение автора бессмертных творений. "В 11 часов горловое кровотечение повторилось. Больной почувствовал необыкновенную слабость. Он позвал детей, взял их за руки и попросил жену прочесть притчу о блудном сыне". Это было последнее покаяние, увенчавшее далеко не простую жизнь Федора Михайловича и показавшее верность духа его творений "маленькой книге" – Евангелию. Правильно говорил В. Соловьев в своей "Второй речи" о Достоевском: "Творят жизнь люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми, – они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества. Такого человека мы сегодня поминаем!" А. И. ОСИПОВ, профессор МДА -------------------- ...მართლმადიდებლობა ყოველგვარი უკიდურესობებისგან გამიჯნული სამეუფეო გზაა. აქედან გამომდინარე, მისთვის დამახასიათებელია თავგანწირვა, მაგრამ მიუღებელია ფანატიზმი, დამახასიათებელია შემწყნარებლობა, მაგრამ მიუღებელია ფსევდოლიბერალიზმი (ყველაფრის დაშვებულობა)-
ილია II- სააღდგომო ეპისტოლე, 2008 წელი |
| death |
 Oct 23 2007, 07:44 PM Oct 23 2007, 07:44 PM
პოსტი
#12
|
 A P O L O G I S T    ჯგუფი: Members პოსტები: 1,274 რეგისტრ.: 4-February 07 წევრი № 1,003 |
ორი თვითმკვლელობა
Недавно как-то мне случилось говорить с одним из наших писателей (большим художником) о комизме в жизни, о трудности определить явление, назвать его настоящим словом. Я именно заметил ему перед этим, что я, чуть не сорок лет знающий "Горе от ума", только в этом году понял как следует один из самых ярких типов этой комедии, Молчалина, и понял именно, когда он же, то есть этот самый писатель, с которым я говорил, разъяснил мне Молчалина, вдруг выведя его в одном из своих сатирических очерков. (Об Молчалине я еще когда-нибудь поговорю, тема знатная). - А знаете ли вы, - вдруг сказал мне мой собеседник, видимо давно уже и глубоко пораженный своей идеей, - знаете ли, что, что бы вы ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведении, - никогда вы не сравняетесь с действительностью. Что бы вы ни изобразили - все выйдет слабее, чем в действительности. Вы вот думаете, что достигли в произведении самого комического в известном явлении жизни, поймали самую уродливую его сторону, - ничуть! Действительность тотчас же представит вам в этом же роде такой фазис какой вы и еще и не предлагали и превышающий все, что могло создать ваше собственное наблюдение и воображение!.. Это я знал еще с 46-го года, когда начал писать, а может быть и раньше, - и факт этот не раз поражал меня и ставил меня в недоумение о полезности искусства при таком видимом его бессилии. Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, - и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: чей глаз и кто в силах? Ведь не только чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника. Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) - не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, - он прибегает к другого рода упрощению и просто-запросто сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противуположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий. Но, разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то понаглядке, а концы и начала - это все еще пока для человека фантастическое. Кстати, один из уважаемых моих корреспондентов сообщил мне еще летом об одном странном и неразгаданном самоубийстве, и я все хотел говорить о нем. В этом самоубийстве все, и снаружи и внутри, - загадка. Эту загадку я, по свойству человеческой природы, конечно, постарался как-нибудь разгадать, чтоб на чем-нибудь "остановиться и успокоиться". Самоубийца - молодая девушка лет двадцати трех или четырех не больше, дочь одного слишком известного русского эмигранта и родившаяся за границей, русская по крови, но почти уже совсем не русская по воспитанию. В газетах, кажется, смутно упоминалось о ней в свое время, но очень любопытны подробности: "Она намочила вату хлороформом, обвязала себе этим лицо и легла на кровать... Так и умерла. Перед смертью написала следующую записку: "Je m'en vais entreprendre un long voyage. Si cela ne reussit pas qu'on se rassemble pour feter ma resurrection avec du Cliquot. Si cela reussit, je prie qu'on ne me laisse enterrer que tout a fait morte, puisqu'il est tres desagreable de se reveiller dans un cercueil sous terra. Ce n'est pas Chic!"" To есть по-русски: "Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых бокалами Клика. А если удастся, то я прошу только, чтоб схоронили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землею. Очень даже не шикарно выйдет!" В этом гадком, грубом шике, по-моему, слышится вызов может быть негодование, злоба, - но на что же? Просто грубые натуры истребляют себя самоубийством лишь от материальной, видимой, внешней причины, а по тону записки видно, что у нее не могло быть такой причины На что же могло быть негодование?.. на простоту представляющегося, на бессодержательность жизни? Это те, слишком известные, судьи и отрицатели жизни, негодующие на "глупость" появления человека на земле, на бестолковую случайность этого появления, на тиранию косной причины, с которою нельзя помириться? Тут слышится душа именно возмутившаяся против "прямолинейности" явлений, не вы несшая этой прямолинейности, сообщившейся ей в доме отца еще с детства. И безобразнее всего то, что ведь она, конечно, умерла без всякого отчетливого сомнения. Сознательного сомнения, так называемых вопросов, вероятнее всего, не было в душе ее; всему она, чему научена была с детства, верила прямо, на слово, и это вернее всего. Значит, просто умерла от "холодного мрака и скуки", с страданием, так сказать, животным и безотчетным, просто стало душно жить, вроде того, как бы воздуху недостало. Душа не вынесла* прямолинейности безотчетно и безотчетно потребовала чего-нибудь более сложного... С месяц тому назад, во всех петербургских газетах появилось несколько коротеньких строчек мелким шрифтом об одном петербургском самоубийстве: выбросилась из окна, из четвертого этажа, одна бедная молодая девушка, швея, - "потому что никак не могла приискать себе для пропитания работы". Прибавлялось, что выбросилась она и упала на землю, держа в руках образ. Этот образ в руках - странная и неслыханная еще в самоубийстве черта! Это уж какое-то кроткое, смиренное самоубийство. Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто - стало нельзя жить. "Бог не захотел" и - умерла, помолившись. Об иных вещах, как они с виду ни просты, долго не перестается думать, как-то мерещится, и даже точно вы в них виноваты. Эта кроткая, истребившая себя душа невольно мучает мысль. Вот эта-то смерть и напомнила мне о сообщенном мне еще летом самоубийстве дочери эмигранта. Но какие, однако же, два разные создания, точно обе с двух разных планет! И какие две разные смерти! А которая из этих душ больше мучилась на земле, если только приличен и позволителен такой праздный вопрос? -------------------- ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
The devil can cite scripture for his own purpose! — William Shakespeare თავისუფლებისათვის გაგვათავისუფლა ქრისტემ. მაშ, იდექით მასში და ნუღარ შეუდგებით მონობის უღელს" (გალ 5.1) |
| afxazi |
 Jan 13 2008, 03:00 PM Jan 13 2008, 03:00 PM
პოსტი
#13
|
 დავითი    ჯგუფი: სენატის თავმჯდომარე პოსტები: 8,814 რეგისტრ.: 7-March 07 წევრი № 1,291 |
აქ დოსტოევსკის მხოლოდ რუსული ტექსტებია, ეს მოთხრობაც დევს, მაგრამ რუსულად. ქართულად წავაწყდი და ძალიან მომეწონა.
ბიჭი `პატარა ხელით~ ბავშვები უცნაური ხალხია. ისინი მუდამ მესიზმრებიან და მელანდებიან. საშობაო ნაძვის ხის მორთვამდე, შობის დღესასწაულის დადგომამდე ნაცნობი ქუჩის კუთხეში მუდამ ვხვდებოდი შვიდიოდე წლის ბიჭუნას. საშინელ ყინვაში მას თითქმის საზაფხულოდ ეცვა, მხოლოდ კისერზე მოეხვია რაღაც ძველმანი, ნიშანი იმისა, რომ გამოშვებამდე მასზე ვიღაცამ იზრუნა. ბიჭი დადიოდა `პატარა ხელით~. ეს მახასიათებელი ტერმინი, რომელიც მოწყალების თხოვნას ნიშნავს, თვით მაწანწალა ბავშვებმა მოიგონეს. ქუჩაში ამ ბიჭის მსგავსს ბევრს წააწყდებით, ისინი თქვენს ირგვლივაც დაძრწიან და რაღაც გაზეპირებულ სიტყვებს გაიძახიან. თუმცა ეს ბიჭი ყველასგან განსხვავდებოდა, ლაპარაკით არავის აწუხებდა, მისი ყოველი სიტყვა უმანკოდ და უჩვეოლოდ ჟღერდა, თან ნდობით სავსე თვალებით შემომცქეროდა. შესაძლოა პროფესიას ის-ის იყო ითვისებდა. როცა მის შესახებ ვკითხე, მიპასუხა, რომ უმუშევარი და ავადმყოფი და ჰყავდა. იქნებ ასეც იყო, მაგრამ მოგვიანებით შევიტყვე, რომ უამრავი ასეთი ბიჭი დაიარება. მათ აუტანელ ყინვაშიც კი `პატარა ხელით~ ქუჩაში აგდებენ და თუ ვერაფერს შეუგროვებენ, დაბრუნებულს სასტიკად სცემენ. ბიჭი ნამათხოვრები კაპიკებითა და ყინვისაგან აწითლებული ხელებით რომელიღაც სარდაფში ბრუნდება, სადაც თავზეხელაღებულთა ბრბო ლოთობს. ეს ის ხალხია, რომელიც შაბათს, კვირადღის წინ გაფიცვას აწყობს, სამუშაოზე კი ოთხშაბათ საღამომდე აღარ ბრუნდება. მათთან ერთად მათი მშიერი, ნაცემი ცოლები ლოთობენ, იქვე შიმშილით დაოსებული ჩვილები ტირიან. არაყი, სიბინძურე, გარყვნილება _ უმთავარესი მაინც არაყია იქ. ამგვარია მათი ცხოვრების წესი. ბიჭუნას დაბრუნებისთანავე თავისი შეგროვებული კაპიკებით ღვინის მოსატანად დუქანში აგზავნიან. ზოგჯერ კი თავზეხელაღებულები მასაც არაყს ასხამენ პირში და იმით ერთობიან, რომ სუნთქვაშეკრული ბავშვი იატაკზე თითქმის უგონოდ ეცემა... ` და შემდეგ ვიღაც ძალდატანებით პირში საზიზღარ არაყს ასხამდა...~ ეს ხალხი უკვე წამოზრდილ ბიჭს სამუშაოდ რომელიმე ფაბრიკაში სასწრაფოდ ამწესებს. ყველაფერი, რასაც გამოიმუშავებს, მან ისევ ამ თავზეხელაღებულებს უნდა მიუტანოს, რომლებიც ამ ფულსაც უდარდელად დაამღერებენ. ჯერ კიდევ ფაბრიკაში მუშაობის დაწყებამდე ეს ბავშვები ნამდვილ დამნაშავეებად ყალიბდებიან. ისინი ქალაქში დაეხეტებიან და სხვადასხვა ფარდულებში ისეთ ადგილებს ეძებენ, სადაც შეძვრომა და ღამის შეუმჩნევლად გათევა შეიძლება. ამათგან ერთ-ერთს ერთ მეეზოვესთან კალათში რამდენიმე ღამე გაუთენებია, ხოლო პატრონს ვერც კი შეუნიშნავს იგი. ბუნებრივია, რომ ასეთი ცხოვრება მათ პატარა ქურდ-ბაცაცებად აყალიბებს, უკვე რვა წლის ბავშვებს ქურდობა მოთხოვნილებად ექცევათ. ხშირად თავისი საქციელს დანაშაულად ვერც აღიქვავენ. ბოლოს კი ყველაფერს იტანენ _ შიმშილს, სიცივეს, ცემას, _ მხოლოდ ერთისთვის, თავისუფლებისთვის, იმისთვის რომ თავი დააღწიონ თავზეხელარებულთა ხროვას და მათხოვრობა დამოუკიდებლად დაიწყონ. ამ ველურმა არსებებმა ხშირად არაფერი იციან _ არც ის თუ სად ცხოვრობენ, რა ეროვნების არიან, არსებობს თუ არა ღმერთი, ან ვინაა ხელმწიფე. ყოველივე ამის შესახებ ხშირად ისეთ ამბებსაც ჰყვებიან, რომ თმები ყალყზე დაუდგება კაცს. II ბიჭი ქრისტესთან ნაძვის ხეზე მე რომანისტი ვარ და მგონია, რომ ერთი `ისტორია~ თვითონ გამოვიგონე. არ ვიცი, როტომ ვწერ, რომ მგონია, მე ხომ დანამდვილებით ვიცი, რომ ეს ამბავი მოვიგონე, მაგრამ მეჩვენება, რომ ეს სადღაც, ოდესღაც ნამდვილად მოხდა, სწორედ შობის წინა დღეს, რომელიღაც დიდ ქალაქში საშინელი ყინვის დროს. მეჩვენება, რომ სარდაფში ჯერ კიდევ ძალიან პატარა, ალბათ ექვსიოდე წლის ბიჭი იყო. მან დილას ნესტიან, ცივ კუთხეში გაიღვიძა. ის ძველ ხალათში გახვეულიყო, სიცივისგან თრთოდა, ყოველი ამოსუნთქვისას პირიდან ორთქლი თეთრად ამოდიოდა. კუთხეში სკივრზე მიყუჟულიყო და მოწყენილი პირიდან ორთქლის გამოშვებით ერთობოდა. საშინლად შიოდა. რაც გაიღვიძა, უკვე რამდენჯერმე მიუახლოვდა ფარდაგს, სადაც ბლინივით თხელ საგებელზე მისი დედა იწვა, ავადმყოფს თავქვეშ ბალიშის ნაცვლად რაღაც ბოხჩა ამოედო. ნეტავ აქ როგორ აღმოჩნდა? როგორც ჩანს თავის პატარა ბიჭუნასთან ერთად სხვა ქალაქიდან ჩამოვიდა და უეცრად ავად გახდა. კუთხეების დიასახლისი ორი დღის წინ დააპატიმრეს. მდგმურები გაიფანტნენ და შობას ზეიმობდნენ. მხოლოდ ერთ მთვრალ თავზეხელაღებულს, რომელსაც დღესასწაულისთვის ვერ დაეცადა, ეძინა მთელი დღე-ღამის მანძილზე. ოთახის მეორე კუთხეში 80 წლის მოხუცი, რევმატიზმებით დაავადებული ქალი კვნესოდა. მას მთელი ცხოვრება ძიძად მუშაობაში გაეტარებინა, ახლა კი უპატრონოდ კვდებოდა. კვნესოდა და ბიჭს ებუზღუნებოდა, რომელსაც მოხუცის კუთხისკენ გახედვისაც ეშინოდა. პატარამ სხვენში არაყი იპოვა, მაგრამ პურის ნატეხსაც ვერ მიაგნო და უკვე მეათედ მიუახლოვდა დედას გასაღვიძებლად. სიბნელეში პატარა რაღაც იდუმელმა შიშმა შეიპყრო. რა ხანია დაბნელებულიყო, ცეცხლს კი არ ანთებდნენ. ბიჭუნა დედის სახეს შეეხო, გაოცდა _ დედა კედელივით ცივი გამხდარიყო. `აქ ძალიან ცივა,~ _ გაიფიქრა ბიჭმა და გაშეშებულს ხელი მიცვალებულის მხარზე შერჩა, შემდეგ გაყინული თითები პირთან მიიტანა გასათბობად, ფარდაგზე ხელის ცეცებით თავისი ქუდი იპოვა და სარდაფიდან უხმაუროდ გავიდა. უფრო ადრეც წავიდოდა, მაგრამ დიდი ძაღლის ეშინოდა, რომელიც მთელი დღე მეზობლის კართან ყმუოდა, მაგრამ ის იქ უკვე აღარ იყო და ბიჭუნა დაუბრკოლებლად გავიდა ქუჩაში. ღმერთო, რა ქალაქია! მას ამგვარი ჯერ არაფერი ენახა. იქ, საიდანაც ის ჩამოვიდა, ღამღამობით უკუნი წყვდიადი სუფევდა და მთელ ქუჩას ერთადერთი მაშუქა ანათებდა. ოდნავ ჩანობნელდებოდა თუ არა, ხის დაბალ ქოხებში დარაბებს ჩარაზავდნენ და ქუჩაში კაცი არ გაჭაჭანდებოდა, ყველა სახლში შეიკეტებოდა, ღამის სიმყუდროვეს მხოლოდ ათასობით ძაღლის ყეფა არღვევდა. მაგრამ იქ თბილოდა, მას აჭმევდნენ, ხოლო აქ ისე შია _ ღმერთო, ნეტავ რამე აჭამონ! როგორი ხმაურია, როგორი სინათლეა, როგორი ხალხი, როგორი ცხენები და ეტლებია, და როგორ ყინავს, როგორ! ილაჯგაწყვეტილ ცხენებს ცხელი ღვართქაფი ჩამოსდიოდათ. ფხვიერ თოვლში ქვაფენილზე ნალების წკარუნი ისმოდა. ყველა ჩქარობდა, ერთმანეთს ხელს კრავდნენ, ბიჭუნას კი ისე შიოდა, ძალიან, ძალიან შიოდა, ნეტავ ერთ ლუკმას მაინც შეაჭმევდეს ვინმე! სიცივისაგან თითები გაეთოშა, ტკივილისაგან მოხრა უჭირდა. იქვე, ცხვირწინ ბიჭუნა სამართალდამცველმა შენიშნა, მაგრამ თვალი აარიდა, თითქოს ვერც შეემჩნია. და აი, ისევ ქუჩა _ ფართო, ძალიან ფართო! აქ ალბათ შეუმჩნევლად გაგსრესენ. ხალხი ყვირის, მიდი-მოდის, გარშემო ყველაფერი გაჩირაღდნებულია. ეს კი რაა? უზარმაზარი მინა, მის მიღმა კი ჭერამდე აწვდილი ნაძვის ხე უთვალავი სანთლით, ოქროსფერი ქაღალდებით და ვაშლებით მოერთოთ. გარშემო თოჯინები და პატარა სათამაშო ცხენები შემოუწყოთ. ლამაზ და სუფთა ტანსაცმელში გამოწყობილი ბავშვები ოთახში მხიარულად დარბოდნენ, იცინოდნენ, თამაშობოდნენ, ტკბილეულს მიირთმევოდნენ. ერთი გოგონა კი ბიჭს ეცეკვებოდა, ისეთი ლამაზი, საყვარელი გოგონა! მინის მიღმა მუსიკა უკრავდა. ამ ყველაფერს ბიჭუნა გაოცებული შესცქეროდა, ეცინებოდა, მაგრამ ხელები საშინლად გაწითლებოდა, სიცივისაგან ფეხის თითებიც ასტკივებოდა, ვეღარც ხრიდა... უცებ აშინლად ეტკინა, ატირდა და გაიქცა, მაგრამ ისევ საოცარი სანახაობა _ ისევ მინა, ოღონდ სხვა სახლის, ოთახში მორთულ-მოკაზმული ნაძვის ხე, გაშლილ მაგიდებზე ყველანაირი ნამცხვარი იდო: ნუშის, წითელი, ყვითელი... იქვე ოთხი მდიდარი ქალბატონი მათთან მისულებს ნამცხვრებით უმასპინძლებოდა. კარი ყოველ წუთას იღებოდა და სახლში უამრავი ბატონი შედიოდა. ბიჭუნა მიიპარა, კარი უცებ შეაღო და ოთახში შევიდა. ისე დაუყვირეს, ხელი მოუქნიეს! ერთი ქალბატონი ბიჭუნას უცებ მიუახლოვდა, ხელში კაპიკიანი ჩაუდო და ქუჩაში გასასვლელი კარი გაუღო. პატარას ძალიან შეეშინდა, კაპიკიანი გაყინული ხელიდან გაუვარდა და კიბის საფეხურზე წკრიალით დაეცა. შეშინებული ბიჭუნა გამოიქცა, ეტირებოდა, უკანმოუხედავად მირბოდა, თან გაყინული თითები გასათბობად პირთან მიჰქონდა. უეცრად საშინელი სიმარტოვე და შიში იგრძნო, სევდა შემოაწვა, მაგრამ ღმერთო დიდებულო, ეს რაა? ხალხი იდგა და გაკვირვებული უყურებდა რაღაცას: ფანჯარაში, მინის მიღმა, თითქოს სამი წითელ და მწვანე კაბებში გამოწყობილი თოჯინები გაცოცხლებულიყვნენ! ერთი მოხუცი კაცი ვითომ იჯდა და დიდ ვიოლინოზე უკრავდა, ორნი იქვე იდგნენ, პატარა ვიოლინოებზე უკრავდნენ, თან თავებს რიტმულად აქნევდნენ, ტუჩებს ამოძრავებდნენ და ლაპარაკობდნენ _ მაგრამ მათი საუბარი მინის აქეთ არ ისმოდა. თავიდან ბიჭუნას მარიონეტები ცოცხალი ადამიანები ეგონა, როცა მიხვდა, რომ თოჯინები იყო, გაეცინა. ასეთი თოჯინები არასდროს ენახა. სიცივისაგან ეტირებოდა, მაგრამ ეს ძალიან, ძალიან სასაცილო თოჯინები ართობდნენ. უცებ ბიჭუნას მოეჩვენა, რომ უკნიდან ხალათზე ხელი სტაცეს, გაიხედა: გვერდით დიდი, ბოროტი ბიჭი ედგა. მან პატარას თავში ხელი წაუთაქა, ქუდი წაართვა და ფეხი გამოსდო. ბიჭუნა დაეცა, ხალხმა შეჰყვირა, გაოგნებული და შეშინებული ბავშვი წამოხტა და უკანმოუხედავად გაიქცა. რომელიღაც ეზოში ჭიშკრის ქვეშიდან შეძვრა, დაჩეხილ შეშასთან ჩამოჯდა და გაიფიქრა: `აქ ბნელა, ვერ მომაგნებენ.~ ბიჭუნა ჩამოჯდა, მოიკუნტა, შიშისა და სიცივისგან სუნთქვა ეკვროდა, მაგრამ უეცრად, სრულიად მოულოდნელად ტკივილმა გაუარა, გათბა, ისე გათბა, თითქოს ღუმელზე მჯდარიყო, უცებ შეკრთა _ თურმე ჩასძინებოდა. რა კარგი ყოფილა აქ ძილი! `ცოტა ხანს კიდევ ვიჯდები, შემდეგ ისევ თოჯინების სანახავად წავალ,~ _ გადაწყვიტა პატარამ, `ისე ჰგვანან ცოცხლებს~ _ გაიფიქრა და გაეცინა. უცებ დედის სიმღერა ჩაესმა, `დედიკო, მძინავს, რა კარგია აქ ძილი!~ _ ჩემთან ნაძვის ხეზე წამოდი, პატარავ!~ _ ჩასჩურჩულა მშვიდმა ხმამ. დედის ხმა ეგონა, მაგრამ არა, ეს დედას არ უთქვამს. ნეტავ ვინ დაუძახა? ბიჭმა ვერ დაინახა, თუ ვინ დაიხარა მისკენ, მაგრამ ხელი მაინც გაუწოდა და... უეცრად უჩვეულოდ ნათელ ადგილას აღმოჩნდა. საოცარი სინათლე იყო, უჩვეულო ნაძვის ხე იდგა, თუმცა არა, ეს ნაძვი არ იყო, მას აქამდე ასეთი ხეები არ ენახა. ნეტავ სად არის? ყველაფერი ბრწყინავს, ბრდღვიალებს, გარშემო თოჯინებია _ არა, ეს თოჯინები კი არა, საოცრად თეთრი გოგო-ბიჭები არიან. ყველა ბიჭუნას გარშემო ტრიალებს, დაფრინავს, მას კოცნიან, ხელში იტაცებენ და თან მიჰყავთ, ახლა თვითონაც დაფრინავს და ხედავს, დედა უყურებს და გახარებული უცინის. _ დედა, დედიკო, რა კარგია აქ! _ უთხრა დედას, თან ბავშვებს ეფერებოდა და ერთი სული ჰქონდა, როდის მოუთხრობდა მათ სასაცილო თოჯინების შესახებ. _ ბავშვებო ვინ ხართ? საიდან ხართ? _ სიყვარულით ეკითხებოდა ბავშვებს და იცინოდა. _ ეს `ქრისტეს ნაძვის ხეა~, _ უთხრეს მათ, _ შობას ქრისტე მუდამ დგამს ნაძვის ხეს იმ ბავშვებისთვის, ვისაც დედამიწაზე არ ჰქონდა ის.. ._ ბიჭუნამ შეიტყო, რომ ეს ბიჭები და გოგონები მის მსგავსად ცხოვრობდნენ. მათგან ზოგი თავიანთ კალათებში გაიყინა, როცა პეტერბურგელ მოხელეებს სახლის კართან მიუგდეს, ზოგი უპატრონო ბავშვთა სახლში ცუდი კვების გამო დაიღუპა, სხვებმა დედის გამშრალ ძუძუსთან სამარაში მძვინვარე შიმშილობისას განუტევეს სული, ან მესამე კლასის აყროლებულ ვაგონებში დაიხუთნენ. შემდეგ ყველა იქ მოხდა და ანგელოზებრივ ცხოვრობენ. ყველა იესო ქრისტეს ფრთის ქვეშ არის, მაცხოვარი შუაში დგას, მფარველ ხელს უწვდის მათ და მათ ცოდვილ დედებთან ერთად ლოცავს, რომლებიც მოშორებით დგანან და თავიანთ პირმშოებს თვალცრემლიანები შესცქერიან. შვილები მათთან მიიფრინედბიან, კოცნიან და პატარა თითებით ცრემლებს წმენდენ, სთხოვენ, რომ არარ იტირონ, _ აქ ისინი ძალიან ბედნიერად ცხოვრობენ. ეს ხდებოდა საიქიოში. სააქაოში კი, გამთენიისას მეეზოვეებმა იმ ბიჭუნას გაყინული ცხედარი იპოვნეს, რომელმაც ღამით შეშასთან მიირბინა. მოიძიეს მისი დედა, თუმცა ის ვაჟზე ადრე გარდაცვლილიყო; ისინი ზეცაში, უფალთან შეხვდნენ ერთმანეთს. და მაინც, რატომ გამოვიგონე ამგვარი ამბავი, რომელიც სულაც არ ჰგავს ჭკვიანურად დაწერილ, ჩვეულებრივ, თანაც მწერლის დღიურს? მე ხომ სინამდვილის ამსახველ მოთხრობებს გპირდებოდით! სწორედ რომ ასეა, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ეს მართლაც შეიძლებოდა მომხდარიყო, _ ის, რაც სარდაფსა და დაჩეხილ შეშასთან მოხდა, ხოლო ქრისტეს ნაძვის ხესთან დაკავშირებით არც კი ვიცი რა გითხრათ, შეიძლებოდა ასეთი რამ მომხდარიყო? მაგრამ რომანისტიც ხომ იმისთვის ვარ, რომ გამოვიგონო. -------------------- სათნოება თვითკმარია ბედნიერებისთვის კლიმენტი ალექსანდრიელი |
| taicko |
 Apr 4 2008, 01:28 PM Apr 4 2008, 01:28 PM
პოსტი
#14
|
 Newbie  ჯგუფი: Members პოსტები: 80 რეგისტრ.: 8-March 08 წევრი № 4,112 |
ძალიან მომწონს დოსტოევსკი.
ჩემი საყვარელი მწერალია. |
| კელა |
 Apr 19 2008, 01:21 AM Apr 19 2008, 01:21 AM
პოსტი
#15
|
 mari  ჯგუფი: Members პოსტები: 73 რეგისტრ.: 18-April 08 წევრი № 4,588 |
"მარადი ქმარი" წავიკითხე ამ ერთი კვირის წინ.
ინტერესნო ყოველთვის მაინტერესებდა, მაგრამ როცა რამის წაკითხვაზე მიდგებოდა საქმე, ყოველთვის გადავდებდი და სხვა რამეს შევიდგებოდი ხოლმე. ახლა გამოვასწორებ მაგ ამბავს მერე დაგიფოსტავთ -------------------- "არა თუმცა უფალმან აღაშენა სახლი, ცუდად შურებიან მაშენებელნი მისნი; არა თუმცა უფალმან დაიცვა ქალაქი, ცუდად იღვიძებენ მხუმილნი მისნი..."
|
| taicko |
 Apr 20 2008, 01:02 PM Apr 20 2008, 01:02 PM
პოსტი
#16
|
 Newbie  ჯგუფი: Members პოსტები: 80 რეგისტრ.: 8-March 08 წევრი № 4,112 |
დაიბადა ექიმის ოჯახში. დაამთავრა პეტერბურგის სამხედრო-საინჟინრო სასწავლებელი (1843). მსახურობდა საინჟინრო დეპარტამენტის სამხაზველოში. მალე თავი დაანება სამსახურს. პირველივე ნაწარმოებმა („საბრალო ადამიანები“, გამოქვეყნდა 1846) გაუთქვა სახელი და მოწინავე რუს მწერალთა რიგში ჩააყენა. შემდგომ ზედიზედ გამოვიდა მოთხრობები "ორეული" (1846), „დიასახლისი“ (1847), „თეთრი ღამეები“ (1848), „ნეტოჩკა ნეზვანოვა“ (1849). ამ პერიოდში დოსტოევსკის მსოფლმხედველობა ვითარდებოდა ბელინსკისა და დასავლეთ ევროპის სოციალისტ-უტოპისტთა, განსაკუთრებით, შ. ფურიეს იდეების ზეგავლენით. 1847 წელს დოსტოევსკი შევიდა პეტრაშეველთა რევოლუციურ წრეში, ერთ-ერთ სხდომაზე წაიკითხა ბელინსკის წერილი გოგოლისადმი. 1849 წელს სხვა პეტრაშეველებთან ერთად დააპატიმრეს და სიკვდილი მიუსაჯეს, რაც განაჩენის აღსრულებამდე უკანასკნელ წუთს ციმბირის კატორღით შეუცვალეს. კატორღის შემდეგ დოსტოევსკი სალდათად გაამწესეს და მხოლოდ 1859 წელს დართეს ცენტრალურ რუსეთში დაბრუნების ნება. ამ პერიოდში გამოქვეყნდა მისი თხზულებანი „ბიძის სიზმარი“ (1859), „სოფელი სტეპანჩიკოვი და მისი მცხოვრებნი“ (1859), რომანი „დამცირებულნი და შეურაცხყოფილნი“ (1861). კატორღის ცხოვრებას ასახავს იმ პერიოდის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები „ბარათები მკვდარი სახლიდან“ (1861-1862). ციმბირში ფიზიკური და ზნეობრივი ტანჯვის ათმა წელმა ვერ გატეხა დოსტოევსკი, ვერ ჩაუკლა რწმენა ადამიანისადმი, პირიქით, გაუმძაფრა სოციალური უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლის სურვილი. ამავე წლებმა განაპირობა მისი ტრაგიკული მსოფლმხედველობითი წინააღმდეგობანი: რევოლუციური სიტუაციის პირობებში დოსტოევსკი გამოდიოდა რევოლუციურ-დემოკრატიული პროგრამის წინააღმდეგ, იგი უარყოფდა „წმინდა ხელოვნების“ თეორიას, მაგრამ ილაშქრებდა ესთეტიკური უტილიტარიზმის წინააღმდეგ, ეკამათებოდა დობროლიუბოვს, რომელსაც მისი აზრით, ეს უტილიტარიზმი ახასიათებდა. დოსტოევსკი მძაფრად აკრიტიკებდა ბატონყმური რუსეთის წესწყობილებას, ასახავდა თავადაზნაურთა კლასის გახრწნას, ექსპლუატაციას, ახალი კაპიტალისტური ფორმების ზრდას. იგი ამტკიცებდა, რომ განვირების „განსაკუთრებული“ გზა რუსეთს საშუალებას მისცემს აიცდინოს რევოლუციური ამბოხებანი, რამაც ევროპაში კაპიტალიზმის სასტიკი კანონები დაამკვიდრა. რუსეთის საგანგებო როლი საყოველთაო ბედნიერების დამკვიდრებაში, მისი აზრით, უნდა აღსრულებულიყო მხოლოდ ნიადაგს მოწყვეტილი თავადაზნაურობის ხალხთან დაახლოების, მონარქიისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელობით, ყველა წოდების გაერთიანების გზით. დოსტოევსკის მიხედვით, ეთიკური ნორმების გამარჯვება შესაძლებელია მხოლოდ რელიგიის საფუძვლებზე ინდივიდის ზნეობრივი სრულყოფით. ეს შეხედულებანი მის მრავალ ნაწარმოებში აისახა. დოსტოევსკის მთავარი რომანებია „დანაშაული და სასჯელი“ (1866), „იდიოტი“ (1868), „ეშმაკნი“ (1871-1872), „ყმაწვილი“ (1875), „ძმები კარამაზოვები“ (1879-1880). დოსტოევსკი ჟურნალისტურ და პუბლიცისტურ მოღვაწეობასაც ეწეოდა, ძმასთან ერთად გამოსცემდა ჟურნალებს „ვრემია“ (1861-1863), „ეპოხა“ (1864-1865). რედაქტორობდა რეაქციულ გაზეთ-ჟურნალს „გრაჟდანინ“ (1873-1874), მეჭდავდა „მწერლის დღიურს“, რომელშიც პუბლიცისტურ წერილებთან ერთად აქვეყნებდა მხატვრულ ნაწარმოებებსაც. დოსტოევსკის შემოქმედების ფსიქოლოგიური, ზნეობრივი, პოლიტიკური და ფილოსოფიური პრობლემები ორგანულ ურთიერთკავშირშია და არეკლავს სინამდვილისა და საზოგადოებრივ აზრის წინააღმდეგობას რუსეთსა და დასავლეთ ევროპაში სოციალური ურთიერთობათა ნგრევისა და მწვავე ცვლის პერიოდში. ადამიანის ტანჯვის ასახვა დოსტოევსკის შემოქმედებაში გამსჭვალულია ჭეშმარიტი ჰუმანიზმითა და ანტიბურჟუაზიული პათოსით. ტრაგედია პიროვნებისა, რომლის ადამიქნური ღირსება შებღალულია უსამართლო საზოგადოების მკაცრი კანონებით, სიმბოლურ განზოგადებას აღწევს ცხოვრებისაგან გათელილი მარმელადოვის აღსარებაში („დანაშაული და სასჯელი“), ანასტასია ფილიპოვნას ყიდვა-გაყიდვის სცენაში („იდიოტი“), ყმაწვილი დოლგორუკოვის მისწრაფებაში — გახდეს „თანამედროვე როტშილდი“ („ყმაწვილი“). დოსტოევსკიმ შექმნა მაღალმხატვრულ პერსონაჟთა გალერეა, კარიერისტებით დაწყებული და მაღალი „იდეოლოგებით“ დამთავრებული. |
| d.p |
 Jul 11 2008, 04:08 AM Jul 11 2008, 04:08 AM
პოსტი
#17
|
|
Advanced Member    ჯგუფი: Members პოსტები: 1,115 რეგისტრ.: 29-December 06 წევრი № 763 |
მოკლედ ასე ვთქვათ ჩემს საქმეში ვარ გაჭედილი ანუ საქმე არ მაქ ეხლა და როგორც იტყვიან "კაკრაზ" საუკეთესო დროა ფილოსოფიისთვის-იმედია მიხვდით რის ირგვლივაც მოკლედ "ძმ. კარამ.-ები"-ს ამ ნაწილს მინდა შევეხოთ ანუ იდეები დადე(ვი)თ თუ შეიძლება - რა უნდოდა იმ კაცს მაგით როეთქვა და ა.შ. ჯერ ვნახვავ სიტუაციას და მერე მეთ(ვ)ითონ დავდებ ნაწილ-ნაწილ და დავიწყებ კონცეპტუალურ-ანალიტიკურ გარჩევას და იდეების ფრქვევას!
|
| natia. |
 Jul 16 2008, 12:28 AM Jul 16 2008, 12:28 AM
პოსტი
#18
|
 natia   ჯგუფი: Members პოსტები: 431 რეგისტრ.: 28-May 08 მდებარ.: Tbilisi წევრი № 4,929 |
დოსტოევსკის თეთრი ღამეები იშოვეთ და წაიკითხეთ ძალიან მაგარიააააა
-------------------- მიუტევე და მოგეტევება; არ განიკითხო და არ განიკითხები; სასუფეველი შორის თქვენსა არს; იხარეთ ორსავე სოფელსა შინა
|
| tustusa-gogo |
 Jul 16 2008, 12:34 AM Jul 16 2008, 12:34 AM
პოსტი
#19
|
 სამშვინველოლოგი    ჯგუფი: Members პოსტები: 2,853 რეგისტრ.: 1-June 08 მდებარ.: xan - sad, xan-sad ... წევრი № 4,965 |
დიდად არ სწყალობს ქალებს ეს ჩვენი ფედია
-------------------- חַנָּה, (Hannah)
............................................ ვამსხვრევ სტერეოტიპებს, გარანტიით !!! ........................................... Женщина тоже друг человека. ................................................ მადლობა ევას ვაშლის შეჭმისთვის მადლობა ადამს თანამონაწილეობისთვის განსაკუთრებული მადლობა ევას |
| guest |
 Jul 16 2008, 01:09 AM Jul 16 2008, 01:09 AM
პოსტი
#20
|
|
Advanced Member    ჯგუფი: Members პოსტები: 6,611 რეგისტრ.: 7-June 07 წევრი № 2,127 |
არა მგონია დოსტოევსკი ისე ნათლად ვინმეს გაეგოს, როგორც იუსტინე პოპოვიჩს... თავის სლავურობით თუ სხვა ნიუანსების ჩათვლით.
|
 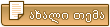 |
ამ თემას კითხულობს 1 მომხმარებელი (მათ შორის 1 სტუმარი და 0 დამალული წევრი)
0 წევრი:
| მსუბუქი ვერსია | ახლა არის: 20th April 2024 - 07:22 AM |
მართლმადიდებლური არხი: ივერიონი
ფორუმის ელექტრონული ფოსტა: იმეილი
CHURCH.GE-Powered by Giorgi and IPB. Hosting by WebHostinG.Ge
2024
Licensed to: church.ge











